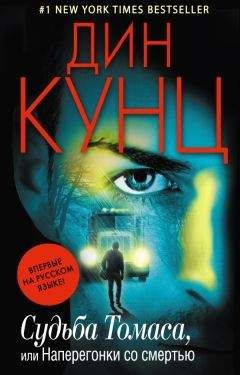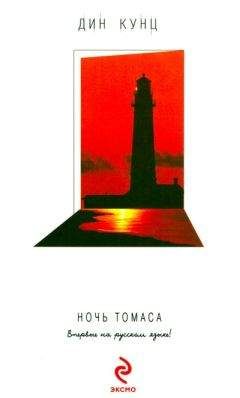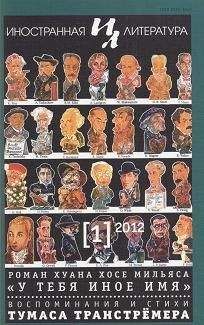Борис Климычев - Сибирский кавалер [сборник]
Теперь, заметив карету Шетарди, Жанно сказал:
— Наверняка он везет еще один кирпичик для здания нашей победы!
6. НОЧЬЮ В ОДИНОКОЙ КЕЛЬЕ
К стенам Ивановского женского монастыря примыкают сады и строения господских и купеческих усадеб. Все возле стен заросло деревьями, кустарниками, цветами. Летом из зеленой травы проглядывают камни с именами великих страстотерпцев, схимников и послушников. Деревянные и каменные кресты стерегут их покой. Нагреется камень от летнего солнышка, приложит к нему монахиня худую ладошку, почувствует ток чего-то неведомого. Вздохнет, перекрестится, пойдет дальше.
Летом в здешних кущах отрадно душе! Над полянами деловито гудят шмели, по тропинкам катят свои огромные шары жуки-скарабеи. Говорят, что земля имеет форму шара. Доказано в немцах. Может, оно и так. Для жука его земля — навозный шар. Может, и нашу матушку-землю катит по небу неведомый жук? Но это одному господу богу известно.
За монастырскими стенами великое множество больших и малых строений. Тут амбары с зерном, каретники с лошадьми, сараи с разной хозяйственной животиной, сеновалы, кладовые. Есть шорные, кузнечные и прочие мастерские.
Глубокие подвалы с кривыми темными ходами хранят тайны, навек укрытые от непосвященных. Между службами и келейными корпусами, между храмами и часовнями множество лесенок, переходов, запутанных коридоров.
По одному из коридоров быстро шла ясноокая монахиня Досифея. Сподобил Господь! Чудесной ясности глаза, голубые лучики-колечики мерцают как круги, расходящиеся в прохладном колодце. Какая совершенная чистота, незамутненность взора, какая голубиная невинность. Идет и смотрит сквозь мир куда-то далеко-далеко. И никакие молитвы, никакие посты не смогли замутить красоты необычайной этой черницы. Лицо молочной чистоты дышит здоровьем и свежестью, ни прыщика, ни морщинки на нем. Не может монастырская мешковатая одежка скрыть стройный стан монашки. Что же заставило красоту такую укрыться за здешними стенами?
Монахинь здесь зело много. Но известно, что Досифея не пропускает молитв и служб. Молится истово и страстно. Идет Досифея с загадочной улыбкой на медовых устах. И встречные монахини думают, что душа её где-то далеко летит на встречу с ангелами небесными. О, как были бы поражены они, если бы узнали подлинные мысли её! А она думала о том, что скоро станет… отцом. Странно? Может быть. Но жизнь так устроена, что все странное и необыкновенное, если его изучить и вдуматься в него, станет и обычным, и понятным.
Пять лет назад Досифея была Федькой Вербовым. Да для себя-то таковым и теперь осталась. Федька был казачком при отставном полковнике Самофорте в его собственном, Самофорта, поместье. Отчаянно пил вино Семен Иванович Самофорт. И бил двенадцатилетнего Федьку смертным боем. То сапоги плохо вычистил, то трубку не так набил. Напившись хлебного самодельного вина, Семен Иванович сваливался в постель, кричал казачку, чтобы прилег и погрел ему спину своим телом. И Федька влезал в постель и приваливался к жирной барской спине своей худенькой спинкой, где можно было пересчитать все позвоночные косточки.
И барин иногда разворачивался в постели и считал эти его косточки, больно надавливал их пальцами. А однажды спустился пальцами ниже копчика и, сопя, надвинулся на Федьку, пронзив его утробной болью. Боль эта хрипела и подвывала, надвигалась и откатывалась, терзая и мучая худенькое тельце.
Федька не имел силы вырываться. Но была в нем не телесная, а другая сила. Она велела не вырываться, не плакать. Мольбы только больше раззадорили бы барина, доставили бы ему больше удовольствия, а Федьку заставили бы дольше страдать. Федька вытерпел всё. И боль отступила. Барин оттолкнул его, сказав:
— Дурак ты, Федька, я стараюсь, а ты, дрянь, бесчувственная, хоть бы шевельнулся ответно! Ладно! После обучишься, войдешь во вкус, тогда уж наверстаем.
— Ваша правда, Семен Иванович, — отвечал ему Федька. — Я потом постараюсь как смогу, но не сразу же…
Когда Семен Иванович уснул, Федька плотно запер замком его спальню. Неслышной тенью скользнул он в девичью, украл рубаху, сарафан. На кухне он запасся калачами. Взял свечей, веретенного масла, дегтя, пакли. И все, что могло хорошо гореть, разлил и разложил у дверей спальни и подо всеми дверями дома. И двери подпер кольями. Разбросал всюду подожженную паклю. И кинулся бежать.
Тайными тропами пробирался Федька к Москве. Оборвался, перемазался в грязи и саже. Просил Христа ради, в попутных деревнях. Так и до Москвы добрался, и до Ивановского женского монастыря. Почему решил в женском монастыре укрыться? А очень просто. Сгорел барин с усадьбой и со всей дворней. Преступление важное! Но ищут-то отрока, а тут пришла отроковица. Пусть ищейки-крючки по мужским монастырям порыскают!
Игуменье пришедшая отроковица понравилась: чудо как красива, взор кроток, глаз поднять не смеет, всё всегда готова исполнять. Являвшихся в монастырь особо-то не расспрашивали, что сами расскажут, то и ладно. Готовы требования устава исполнять, и — ладно. А там — видно будет. И отроковицу Феклу (так назвался Федька) нарекли Досифеей.
Игуменья приставила Досифею к своей заместительнице, к монахине Евпраксии. Она была старожилкой монастыря, пережила несколько игумений. Великого ума и великих познаний женщина. Знала Библию и весь греческий устав, читала и по латыни. И себя блюла, тысячи поклонов била, и обливалась зимой и летом колодезной водой до пояса, и растиралась платами белыми. На полях и огородах работала как одержимая. Посты все, до единого, твердо стояла. И старость её не брала. Сколько жила, ни морщин на челе не добавилось, ни огрузла, ни одрябла. Только лицо с годами слегка потемнело, словно загаром вечным покрылось.
Лишь одна слабость была когда-то у Евпраксии. Сердце её, бывало, тянулось к юным миловидным монахиням. А и грехом её увлечение назвать было нельзя. Если наставляя молодую сестру во Христе, приобнимет её за талию, что ж с того? Если похристосуется с сестрой более крепко, чем другие монахини, так, может, это без умысла, а просто по горячности характера своего? Точно никто не помнит, но теперь Евпраксии около семидесяти, а может, и все восемьдесят. Это возраст уже трезвый и чистый, это годы, когда все мирское уходит с горизонта и взор человека сам собой устремляется к вечности. Вот почему игуменья направила Досифею в помощь своей почтенной товарке.
Досифея, конечно, сразу поняла, что Евпраксия любуется ею. Не жалко, не убудет. Пусть и за талию подержит, рукой своей старой, но твердой, пусть по волосам, словно нечаянно, проведет, что с того? Евпраксия стара, но не отвратительна, пропиталась ладаном, запахом древа кипариса, свежестью воды колодезной, травяными, медовыми настоями. Одежда черна, а белье под ней тонкое, чистое. Это всё Досифея успела заметить.